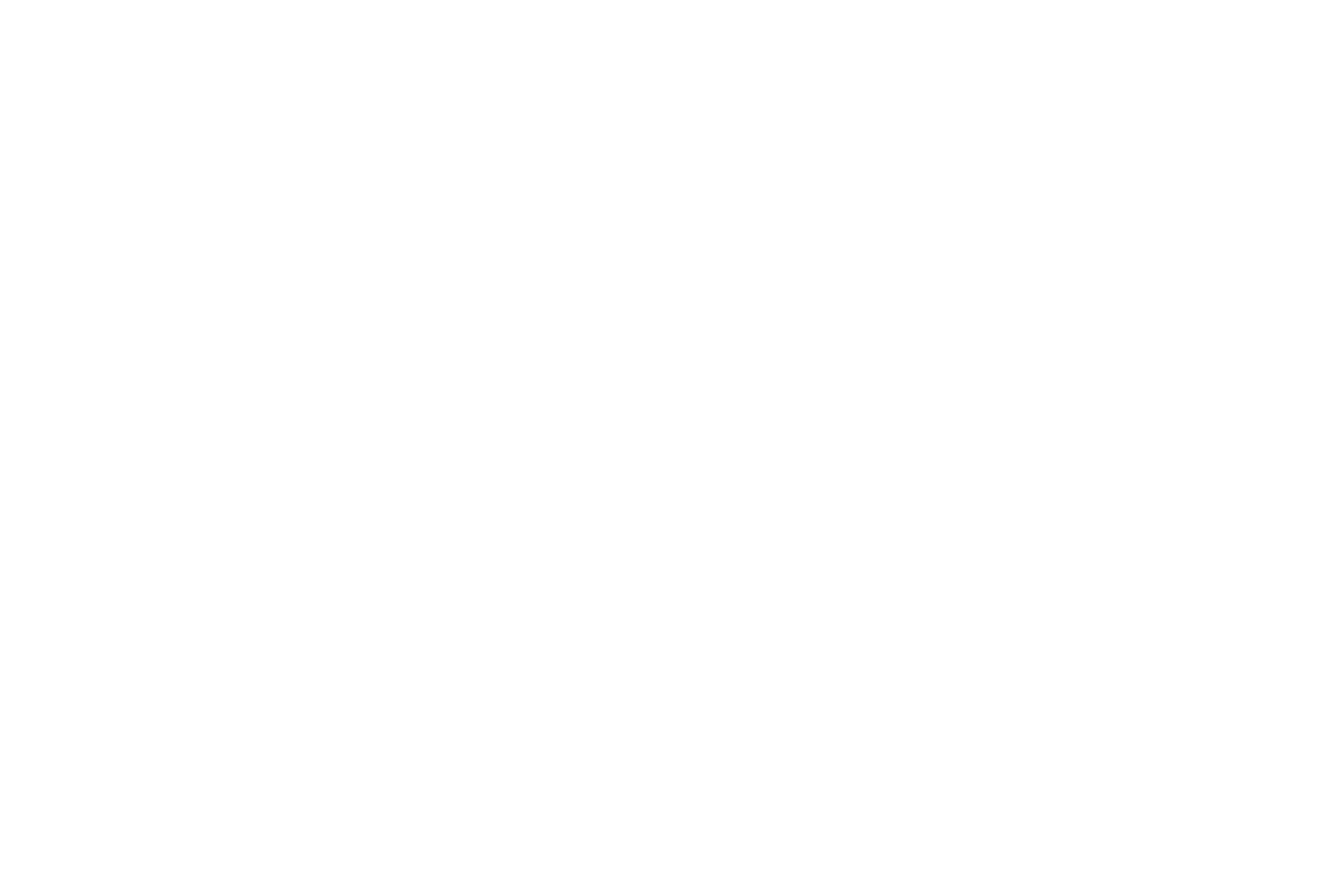Гоголевские герои Невского проспекта
Доктор филологических наук, профессор кафедры
отечественной филологии РГГМУ

Владимир Дмитриевич Денисов1

Творческую историю повестей о российской столице изначально питали мечты о будущем гимназиста Гоголя. В его письмах к Г. И. Высоцкому, окончившему курс двумя годами раньше и уже служившему в Петербурге, возникает образ «райского места», где лучшая одежда и еда, несмотря на климат и «необыкновенную дороговизну» всего, даже «самых пустяков», по сравнению с Малороссией. Тогда трудности, скорее, воодушевляли автора – издалека само преодоление их казалось залогом будущего успеха его дела «для пользы человечества». Там, среди друзей-единомышленников, в «веселой комнатке окнами на Неву» закипят его труды, сбудется заветное желание служить Отечеству и высокому искусству2. Но затем, вскоре после приезда в столицу, он напишет матери: «…Петербург мне показался вовсе не таким, как я думал» (Там же. С. 136). И неприятно теперь удивляют, казалось бы, уже известные ему по письмам Высоцкого дороговизна всего, равнодушие к другим тех, кто живет и служит без всякой идеи, ради жалования, а главное – столичная «пустота». И тогда под его пером впервые возникают черты демонического города – никакого, не русского и не иностранного, с бездушными полубезумными чиновниками-автоматами: «Петербург вовсе не похож на прочие столицы европейские или на Москву, – пишет Гоголь матери 30 апреля 1829 г. – Каждая столица вообще характеризуется своим народом, набрасывающим на нее печать национальности, на Петербурге же нет никакого характера: иностранцы, которые поселились сюда, обжились и вовсе не похожи на иностранцев, а русские в свою очередь обыностранились и сделались ни тем ни другим. Тишина в нем необыкновенная, никакой дух не блестит в народе, всё служащие да должностные, все толкуют о своих департаментах да коллегиях, всё подавлено, всё погрязло в бездельных, ничтожных трудах, в которых бесплодно издерживается жизнь их. Забавна очень встреча с ними на проспектах, тротуарах; они до того бывают заняты мыслями, что, поравнявшись с кем-нибудь из них, слышишь, как он бранится и разговаривает сам с собою, иной приправляет телодвижениями и размашками рук» (Там же. С. 139). Трудно не увидеть здесь набросков будущей «панорамы» Невского проспекта и типов столичных жителей!
В трех повестях о жизни Санкт-Петербурга, опубликованных Гоголем в сборнике «Арабески» (1835), вполне очевидно, как герои, которые не молятся и не раскаиваются, грубо нарушают христианскую мораль. В повести «Записки сумасшедшего» и герой, и сам рассказчик не посещают, судя по всему, церковь даже в праздники, кроме того, слышат разговоры собак на Невском проспекте, читают их переписку. В 1-й ред. повести «Портрет» ростовщик Петромихали и портретист Чертков безудержно обогащаются, вопреки религиозным заповедям, а зимой возле дома ростовщика находят замерзших старух, которые приходили за милостыней, но так ее и не дождались. «Демон в портрете» является художнику-монаху, Черткову и другим в лавке картин и на аукционе, он подменяет «писаный образ» как «антиикона». «Церковный» художник обращается за помощью к священнику, а потом гибнут его жена и сын. В повести «Невский проспект» поручик Пирогов прелюбодействует, великолепная красавица торгует своим телом, художник Пискарев убивает себя в припадке безумия, а ночью на Невском проспекте «сам демон зажигает лампы для того только, чтобы показать всё не в настоящем виде»3.
По-видимому, Добро в столице Православия уже утратило свою энергию — и бытие дробится на фрагменты, затем – на разные «пространственные» и «временные» нити, хаотически перепутанные «истории»: Пискарева и Пирогова, Черткова, хозяина его квартиры, красавицы-проститутки, светской дамы и ее дочери, заказчиков, портреты Черткова, записи Поприщина, письма собачек, типы и маски лиц на Невском и т.д. Это оставляемый Богом мир уже нарушенных и рвущихся связей, «штампов», меркантильного ремесла... Он стареет, грубеет, ветшает, умножает сам себя под действием «гнили и моли» демонического и бесовского разрушения. Противостоять ему может лишь сотворенный художником светло растущий мир искусства, что вмещает историю и «настоящее» Мира и сам способен породить новое. Именно художник как творец с высоты «вековечного» может увидеть и воплотить своё время художественным целым: во всём многообразии явлений и связей, в соотнесении с историей своего народа и всего человечества. Это позволяет истолковать «сиюминутные мелочи» бытия, показать его общее и постоянное как особенное, присущее данному моменту развития. Здесь художественное целое в его литературно-историческом (то есть эпическом) плане создается противоречивым единством конкретного, изменчивого, текущего и вековечного, коренного, народного.
Другая важнейшая особенность «петербургских» повестей – они совмещают черты прекрасного и безобразного в единичных и массовых проявлениях (например, при описании публики на Невском проспекте). Подобная двойственность, отражавшая неоднозначность, текучесть, порой неразличение добра и зла, изначально пронизывала романтическую поэтику. Так, «демон в портрете», исполненный «мастерской кистью», имеет некую «незаконченность», и такими же будут созданные Чертковым портреты «нетерпеливых, занятых, торопящихся» заказчиков, чья плотская жизнь вовсе души не предполагает. Так в красавице-проститутке видят и Мадонну, и великосветскую даму. А записки рехнувшегося канцеляриста обрывочны, пошлы и… трагичны!.. но в дальнейшем трагедия отверженного обществом героя становится бредом и фарсом, где «высокое» обращается больным и низменным. Итак, гоголевское повествование и созданные образы сочетают гармоничные, естественные черты с гротеском, гиперболой, с некими скрыто и/или явно «демоническими» чертами – и это указывает, что «художническое» здесь достаточно близко, а иногда и однорядно с противоположным «демоническим».
Поэтому, чтобы создать произведение Искусства, художник должен уйти от мира в религиозное уединение или «в чужую землю», ибо его мир «внутренний» зависит от «внешнего», от окружающего и окружающих, но, в свою очередь, на них герой повлиять не в силах (на это отчасти способно Искусство, созданное «в чужой земле»). Поэтому художник-монах испытывает чувства и вины, и мести. Нерасторжимость этих двух мотивов поведения позволяет говорить о некоем едином психологическом комплексе «вины-мести», изначально свойственном «демоническому» герою романтизма. Но художник-монах винит лишь себя за создание «демона в портрете» и ему же мстит, чтобы искупить свой грех перед искусством и людьми: указывая на Зло, угрожающее обществу, он тем самым злые чары разрушает. В отличие от него Чертков уничтожает и накопленные духовные ценности, и собственное богатство, и себя как личность. Лишь у «идеального художника» нет чувства «вины-мести»: он отвергает своё обычное существование ради чужого мира, где «презревши всё, был бесчувствен ко всему, кроме своего милого искусства» (421).
Отсутствие комплекса «вины-мести» характерно для рассказчика Леона (фр. Лев) – сына художника-монаха, офицера, который ведет свою борьбу со Злом. В 1-й ред. повести «Портрет» этот тип сродни героическому типу офицера из произведений М. Загоскина, А. Марлинского, В. Карлгофа, В. Даля… Такой герой уничтожал проявления зла естественно, благодаря своей гражданско-патриотической позиции, как и герои-художники. А это указывало на его близость к архетипу героя-воина – мужественного, стойкого, верного слову подвижника, всегда готового к борьбе. Но когда такого основания нет, тип героя-военного у Гоголя неизбежно мельчает, превращаясь в тип филистера, что был у романтиков полной противоположностью художнику – некой пошлой заурядностью, «общим местом», «духовным нулем», живущим лишь шкурными интересами, агрессивно их отстаивающим и насаждающим. Это всегда – человек позы, для которой служит фоном толпа, и герой в ней обычно себя реализует, а потому изображение толпы включает типы и позы филистеров.
Так, демонстрация «могущества силы» маленьких людей – тупой и грубой – открывает картину Невского проспекта, где оставляют свой след «неуклюжий грязный сапог отставного солдата <…> и гремящая сабля исполненного надежд прапорщика, проводящая на нем резкую царапину…» (10). Там среди атрибутов публики, наряду с необычными бакенбардами, восторженно описаны «чудные усы», какие имели право носить лишь военные или бывшие военные. Затем кавалерийский «сапог со шпорой и… выпушка мундира» (21) обнаруживаются в публичном доме. Засилье военных отражено и во сне художника, когда на балу «несколько пожилых людей» спорят «о преимуществе военной службы перед статскою…» (27).
Начало «истории Пирогова» также прокламирует вездесущность «офицеров, составляющих в столице какой-то особый слой общества. На вечере, на обеде <…> вы всегда найдете одного из них <…> между благонравной блондинкой и черным фраком братца или домашнего знакомого» (34). Далее такой филистер обретает псевдо-«художнические» черты: «Они имеют особенный дар», но дар «заставлять смеяться и слушать… бесцветных красавиц»; «…они считаются учеными и воспитанными людьми. Они любят потолковать об литературе», но без разбора «хвалят Булгарина, Пушкина и Греча»; «Они не пропускают ни одной публичной лекции», но им все равно – она «о бухгалтерии или даже о лесоводстве»; «В театре они бессменно», но «какая бы ни была пьеса», потому что «особенно любят в пьесе хорошие стихи, также очень любят громко вызывать актеров…» (35). И лишь затем указаны главные черты филистерского типа: «…многие из них, преподавая в казенных заведениях или приготовляя к казенным заведениям, заводятся наконец кабриолетом и парою лошадей. Тогда <...> они достигают наконец до того, что женятся на купеческой дочери, умеющей играть на фортепиано, с сотнею тысяч или около того наличных... Однако ж этой чести они не прежде могут достигнуть, как выслуживши, по крайней мере, до полковничьего чина» (35). Потом речь зайдет о «множестве талантов» и даже «искусстве» самого поручика Пирогова – впрочем, все они сводятся к умению декламировать стихи, «пускать из трубки дым кольцами» и «очень приятно рассказать» известный анекдот (35-36). А затем, наконец, будут описаны главные черты героя: это довольство собой, доходящее до обожания, упоение даже небольшими чином и властью, вера в их незыблемость, страсть к «интрижкам», авантюрам и поведению, в принципе не подобающему офицеру.
Так офицер становится «средним» героем современного петербургского мира, как и другие городские типы, поэтому у него нет и не может быть героического. А Пирогов вместо примет героя-офицера обнаруживает характерные черты дворянина без определенных занятий: он почти не занимается службой, обычно ходит в партикулярном платье и дружит с гражданскими чиновниками, хотя обнаруживает «страсть ко всему изящному и поощряет художника Пискарева…» (36). Из офицерских атрибутов у него есть лишь чин, которым он гордится и постоянно его упоминает, и курение трубки. Тем самым Пирогов походит на таких же филистеров, как самодовольный немецкий ремесленник Шиллер, а это затем приводит к прямому столкновению амбиций самовлюбленных героев.
Не менее иронично описана в повести совокупность чиновников различных коллегий, департаментов и канцелярий, которую можно назвать олицетворением «табели о средних рангах». Цензура этого не запрещала (так же, как нарочито-серьезное и юмористическое описание людей светского круга), поскольку массовая литература к тому времени освоила европейскую просветительскую карикатурно-юмористическую обрисовку чиновника. Кроме того, описание таких типов включает бесовские и демонические черты, какие проявляются все сильнее к вечеру, тем более – ночью! Кстати, всё это относится не только к мужчинам...
Давно уже отмечено двусмысленное гоголевское определение Невского проспекта: «…улица – красавица нашей столицы!» (9) – как центра России. В изображении фланирующих здесь людей перемежаются черты мужских и женских интернациональных типов, а к этому добавляются соответствующие аксессуары всеобщей продажи и продажности. Именно их и подразумевал поручик Пирогов, когда направлял художника Пискарева догонять «брюнетку», а сам, в свою очередь, устремлялся за «блондинкой». Этот образ красавицы-проститутки из «Исповеди опиофага» Т. Де Квинси (1822) или романа Ж. Жанена «Мертвый осел и обезглавленная женщина» (1829; рус. пер.: 1831) опознавался тогда как порождение «неистовой словесности», чью поэтику Гоголь ранее уже использовал в своих исторических фрагментах. Одной из примет «кошмарного» жанра была взаимосвязь «падшей красоты» (образа язычески распутной и продажной Венеры) с трагической судьбой одинокого художника или повествователя (хроникера), кто, переживая за героиню, видит и других, подобных ей, но бессилен помочь. Поэтому образы красавицы-проститутки во снах Пискарева (дама полусвета – подруга и натурщица – хозяйка дома) подобны женским типам на Невском проспекте и на балу, уравнивая добродетель и порок. Ведь потребность купить порождает готовность продать, а проститутки это или охочие до магазинов жены и дочери дворян, «исплясавшиеся на балах» и желающие за деньги купить всё, – значения не имеет! – они одинаково бездуховны и по-своему продают себя, не различая добро и зло.
Вышеназванные петербургские типы сближаются бытованием на Невском проспекте, особенностями поведения (и мужского, и женского), общими интересами, постоянными занятиями, где, как у красавицы-проститутки, ремесло, коммерция, служба и праздность неразличимы. Поэтому честные, хотя пьющие немецкие ремесленники близки бессовестным ремесленным писакам-иноземцам, а тротуар Невского проспекта выравнивает не только богатых и бедных, занятых и не занятых, разных по характеру людей, но их лица, одежду, атрибуты... Человек мельчает (что и «подсказывают» читателю фамилии героев) до части тела или атрибута: ножка, усы, сабля… – до вещи, до торговли (собой), ибо уже ни добр, ни зол, «ни горяч, ни холоден»4, но в гордыне своей претендует на самообóжение как оставляемый Богом человек апокалиптического времени, предначертанного в Новом Завете.
Итак, перед героями в «европейском» мире Петербурга есть два пути: либо полное одиночество и религиозное самоотречение ради искусства, – это мессианство Художника, сохраняющего естественную духовность развития, христианские нормы; либо «низменное» поклонение Мамоне, охватившее все слои общества, – это полное измельчание, вырождение в антигероев или превращение в демоническую личность, подобную ростовщику. Тот неправедный мир определяет демоническая злоба к ближнему и отчуждение от него (не-любовь), а также их следствия: эгоцентризм, корыстолюбие, карьеризм, разные нарушения естественности, приличий и т.п., присущие раздробленному, хотя и унифицированному европейскому обществу, его «расквадраченному», «материально-меркантильному» миру. Этому злу противостоит только Искусство и Художник-Творец – личность, естественно и бескорыстно созидающая особый духовный мир, который отражает Божественную идею Добра в человеке, а потому способен объединять людей и принадлежит Вечности.
Но если художник сам идет на компромисс со злобно-меркантильным «бесом» и сопутствующим тому разрушительным хаосом, то создает противоестественный портрет, соединяя обычно несоединимое (мертвое и живое), умножая зло и помогая явиться в мир «антихристу». Значит, художник не может быть безучастным к окружающему и своим ближним: он или духовно растет в противоборстве со злом — и тогда развивает талант, со-творяя гармонический мир, открывая людям красоту Божественного, или изменяет таланту ради низкого ремесла — и становится филистером, богатеет, обкрадывая людей, лишая их духовных ценностей, приближая дьявольский хаос, а сам, как Чертков, становится его первой жертвой! Подобные обмены и/или продажи духовных благ за богатства земные постепенно разрушают Мир, ведут его к хаосу и гибели — убеждает читателя Гоголь.
Подобное размывание границ между антиномичными образами делает указанные черты филистера узнаваемо-общими для разных героев. Иными словами, филистером может быть любой из жителей Петербурга: ремесленник, художник, офицер и… сам рассказчик. Так смещаются критерии типичности гоголевского героя, и это, как мы уже видели, приводит к некой расплывчатой «усредненности», неопределенности его положения, когда он низводится (обычно среди других персонажей или в толпе) до роли марионетки, действующей безотчетно, не различающей добро и зло, а потому творящей зло. И если герои повестей в «Вечерах на хуторе близ Диканьки» (1831-1832) восходили к народным украинским – и фольклорным, и театральным, и литературным образам, прочно связанным друг с другом корнями фольклора, мотивами античного и средневекового искусства, а эпические персонажи повести «Тарас Бульба» подобны ветхозаветным героям религиозного плана – божествам, святым, воинам-подвижникам, то герои Невского проспекта, вероятно, тогда опознавались читателем как типы современной ему романтической литературы, причем в пошло-массовом и театрально-водевильном изводе, – они интернациональны, хотя и ощутимо влияние русского городского фольклора, традиций вертепа и балаганов.
Само искусство Гоголя-писателя представляется, с этой точки зрения, синкретичным – в том смысле, что автор, в зависимости от целей повествования, соединяет в нем формы, присущие разным эпохам, различным литературным направлениям и фольклору, использует мотивы народного творчества, античной и средневековой литературы, сочинения европейских и русских писателей Нового времени — и гармонизирует повествование, как бы заново создавая из литературно-фольклорного «хаоса» свой художественный мир и тем самым пытаясь воздействовать на мир обычный. И хотя, по словам Ю. В. Манна, «казалось бы, самое простое и логичное вывести из раздробленности “меркантильного века” мысль о фрагментарности художественного изображения в современном искусстве <...> Однако что касается Гоголя, то эта тенденция не определяет его поэтики в целом и постоянно борется с другой тенденцией — противоположной. Недаром, по мнению Гоголя, лоскутность и фрагментарность художественного образа — это удел второстепенных талантов <...> чем сильнее увлекала Гоголя мысль о раздробленности жизни, тем решительнее заявлял он о необходимости широкого синтеза в искусстве»5. Так, видимую, нарочитую фрагментарность изображения в «петербургских» повестях он применяет для показа «раздробленности» современной ему столичной жизни, засилья в ней омертвелых (ремесленных) форм, казенной отчужденности людей друг от друга. Но, подобно своему герою — «идеальному художнику», писатель стремится искусством преодолеть неподвижность, закоснелость, «дробность» окружающего. Концепцию мира, человека, искусства у Гоголя воплощает и сама форма эпического произведения: ей присущи идейно-тематическое соответствие частей целому, взаимосвязь историко-эстетических характеристик героев в плане повествования о современности, — то, что будет затем с такой художественной силой развито в поэме «Мертвые души».
В трех повестях о жизни Санкт-Петербурга, опубликованных Гоголем в сборнике «Арабески» (1835), вполне очевидно, как герои, которые не молятся и не раскаиваются, грубо нарушают христианскую мораль. В повести «Записки сумасшедшего» и герой, и сам рассказчик не посещают, судя по всему, церковь даже в праздники, кроме того, слышат разговоры собак на Невском проспекте, читают их переписку. В 1-й ред. повести «Портрет» ростовщик Петромихали и портретист Чертков безудержно обогащаются, вопреки религиозным заповедям, а зимой возле дома ростовщика находят замерзших старух, которые приходили за милостыней, но так ее и не дождались. «Демон в портрете» является художнику-монаху, Черткову и другим в лавке картин и на аукционе, он подменяет «писаный образ» как «антиикона». «Церковный» художник обращается за помощью к священнику, а потом гибнут его жена и сын. В повести «Невский проспект» поручик Пирогов прелюбодействует, великолепная красавица торгует своим телом, художник Пискарев убивает себя в припадке безумия, а ночью на Невском проспекте «сам демон зажигает лампы для того только, чтобы показать всё не в настоящем виде»3.
По-видимому, Добро в столице Православия уже утратило свою энергию — и бытие дробится на фрагменты, затем – на разные «пространственные» и «временные» нити, хаотически перепутанные «истории»: Пискарева и Пирогова, Черткова, хозяина его квартиры, красавицы-проститутки, светской дамы и ее дочери, заказчиков, портреты Черткова, записи Поприщина, письма собачек, типы и маски лиц на Невском и т.д. Это оставляемый Богом мир уже нарушенных и рвущихся связей, «штампов», меркантильного ремесла... Он стареет, грубеет, ветшает, умножает сам себя под действием «гнили и моли» демонического и бесовского разрушения. Противостоять ему может лишь сотворенный художником светло растущий мир искусства, что вмещает историю и «настоящее» Мира и сам способен породить новое. Именно художник как творец с высоты «вековечного» может увидеть и воплотить своё время художественным целым: во всём многообразии явлений и связей, в соотнесении с историей своего народа и всего человечества. Это позволяет истолковать «сиюминутные мелочи» бытия, показать его общее и постоянное как особенное, присущее данному моменту развития. Здесь художественное целое в его литературно-историческом (то есть эпическом) плане создается противоречивым единством конкретного, изменчивого, текущего и вековечного, коренного, народного.
Другая важнейшая особенность «петербургских» повестей – они совмещают черты прекрасного и безобразного в единичных и массовых проявлениях (например, при описании публики на Невском проспекте). Подобная двойственность, отражавшая неоднозначность, текучесть, порой неразличение добра и зла, изначально пронизывала романтическую поэтику. Так, «демон в портрете», исполненный «мастерской кистью», имеет некую «незаконченность», и такими же будут созданные Чертковым портреты «нетерпеливых, занятых, торопящихся» заказчиков, чья плотская жизнь вовсе души не предполагает. Так в красавице-проститутке видят и Мадонну, и великосветскую даму. А записки рехнувшегося канцеляриста обрывочны, пошлы и… трагичны!.. но в дальнейшем трагедия отверженного обществом героя становится бредом и фарсом, где «высокое» обращается больным и низменным. Итак, гоголевское повествование и созданные образы сочетают гармоничные, естественные черты с гротеском, гиперболой, с некими скрыто и/или явно «демоническими» чертами – и это указывает, что «художническое» здесь достаточно близко, а иногда и однорядно с противоположным «демоническим».
Поэтому, чтобы создать произведение Искусства, художник должен уйти от мира в религиозное уединение или «в чужую землю», ибо его мир «внутренний» зависит от «внешнего», от окружающего и окружающих, но, в свою очередь, на них герой повлиять не в силах (на это отчасти способно Искусство, созданное «в чужой земле»). Поэтому художник-монах испытывает чувства и вины, и мести. Нерасторжимость этих двух мотивов поведения позволяет говорить о некоем едином психологическом комплексе «вины-мести», изначально свойственном «демоническому» герою романтизма. Но художник-монах винит лишь себя за создание «демона в портрете» и ему же мстит, чтобы искупить свой грех перед искусством и людьми: указывая на Зло, угрожающее обществу, он тем самым злые чары разрушает. В отличие от него Чертков уничтожает и накопленные духовные ценности, и собственное богатство, и себя как личность. Лишь у «идеального художника» нет чувства «вины-мести»: он отвергает своё обычное существование ради чужого мира, где «презревши всё, был бесчувствен ко всему, кроме своего милого искусства» (421).
Отсутствие комплекса «вины-мести» характерно для рассказчика Леона (фр. Лев) – сына художника-монаха, офицера, который ведет свою борьбу со Злом. В 1-й ред. повести «Портрет» этот тип сродни героическому типу офицера из произведений М. Загоскина, А. Марлинского, В. Карлгофа, В. Даля… Такой герой уничтожал проявления зла естественно, благодаря своей гражданско-патриотической позиции, как и герои-художники. А это указывало на его близость к архетипу героя-воина – мужественного, стойкого, верного слову подвижника, всегда готового к борьбе. Но когда такого основания нет, тип героя-военного у Гоголя неизбежно мельчает, превращаясь в тип филистера, что был у романтиков полной противоположностью художнику – некой пошлой заурядностью, «общим местом», «духовным нулем», живущим лишь шкурными интересами, агрессивно их отстаивающим и насаждающим. Это всегда – человек позы, для которой служит фоном толпа, и герой в ней обычно себя реализует, а потому изображение толпы включает типы и позы филистеров.
Так, демонстрация «могущества силы» маленьких людей – тупой и грубой – открывает картину Невского проспекта, где оставляют свой след «неуклюжий грязный сапог отставного солдата <…> и гремящая сабля исполненного надежд прапорщика, проводящая на нем резкую царапину…» (10). Там среди атрибутов публики, наряду с необычными бакенбардами, восторженно описаны «чудные усы», какие имели право носить лишь военные или бывшие военные. Затем кавалерийский «сапог со шпорой и… выпушка мундира» (21) обнаруживаются в публичном доме. Засилье военных отражено и во сне художника, когда на балу «несколько пожилых людей» спорят «о преимуществе военной службы перед статскою…» (27).
Начало «истории Пирогова» также прокламирует вездесущность «офицеров, составляющих в столице какой-то особый слой общества. На вечере, на обеде <…> вы всегда найдете одного из них <…> между благонравной блондинкой и черным фраком братца или домашнего знакомого» (34). Далее такой филистер обретает псевдо-«художнические» черты: «Они имеют особенный дар», но дар «заставлять смеяться и слушать… бесцветных красавиц»; «…они считаются учеными и воспитанными людьми. Они любят потолковать об литературе», но без разбора «хвалят Булгарина, Пушкина и Греча»; «Они не пропускают ни одной публичной лекции», но им все равно – она «о бухгалтерии или даже о лесоводстве»; «В театре они бессменно», но «какая бы ни была пьеса», потому что «особенно любят в пьесе хорошие стихи, также очень любят громко вызывать актеров…» (35). И лишь затем указаны главные черты филистерского типа: «…многие из них, преподавая в казенных заведениях или приготовляя к казенным заведениям, заводятся наконец кабриолетом и парою лошадей. Тогда <...> они достигают наконец до того, что женятся на купеческой дочери, умеющей играть на фортепиано, с сотнею тысяч или около того наличных... Однако ж этой чести они не прежде могут достигнуть, как выслуживши, по крайней мере, до полковничьего чина» (35). Потом речь зайдет о «множестве талантов» и даже «искусстве» самого поручика Пирогова – впрочем, все они сводятся к умению декламировать стихи, «пускать из трубки дым кольцами» и «очень приятно рассказать» известный анекдот (35-36). А затем, наконец, будут описаны главные черты героя: это довольство собой, доходящее до обожания, упоение даже небольшими чином и властью, вера в их незыблемость, страсть к «интрижкам», авантюрам и поведению, в принципе не подобающему офицеру.
Так офицер становится «средним» героем современного петербургского мира, как и другие городские типы, поэтому у него нет и не может быть героического. А Пирогов вместо примет героя-офицера обнаруживает характерные черты дворянина без определенных занятий: он почти не занимается службой, обычно ходит в партикулярном платье и дружит с гражданскими чиновниками, хотя обнаруживает «страсть ко всему изящному и поощряет художника Пискарева…» (36). Из офицерских атрибутов у него есть лишь чин, которым он гордится и постоянно его упоминает, и курение трубки. Тем самым Пирогов походит на таких же филистеров, как самодовольный немецкий ремесленник Шиллер, а это затем приводит к прямому столкновению амбиций самовлюбленных героев.
Не менее иронично описана в повести совокупность чиновников различных коллегий, департаментов и канцелярий, которую можно назвать олицетворением «табели о средних рангах». Цензура этого не запрещала (так же, как нарочито-серьезное и юмористическое описание людей светского круга), поскольку массовая литература к тому времени освоила европейскую просветительскую карикатурно-юмористическую обрисовку чиновника. Кроме того, описание таких типов включает бесовские и демонические черты, какие проявляются все сильнее к вечеру, тем более – ночью! Кстати, всё это относится не только к мужчинам...
Давно уже отмечено двусмысленное гоголевское определение Невского проспекта: «…улица – красавица нашей столицы!» (9) – как центра России. В изображении фланирующих здесь людей перемежаются черты мужских и женских интернациональных типов, а к этому добавляются соответствующие аксессуары всеобщей продажи и продажности. Именно их и подразумевал поручик Пирогов, когда направлял художника Пискарева догонять «брюнетку», а сам, в свою очередь, устремлялся за «блондинкой». Этот образ красавицы-проститутки из «Исповеди опиофага» Т. Де Квинси (1822) или романа Ж. Жанена «Мертвый осел и обезглавленная женщина» (1829; рус. пер.: 1831) опознавался тогда как порождение «неистовой словесности», чью поэтику Гоголь ранее уже использовал в своих исторических фрагментах. Одной из примет «кошмарного» жанра была взаимосвязь «падшей красоты» (образа язычески распутной и продажной Венеры) с трагической судьбой одинокого художника или повествователя (хроникера), кто, переживая за героиню, видит и других, подобных ей, но бессилен помочь. Поэтому образы красавицы-проститутки во снах Пискарева (дама полусвета – подруга и натурщица – хозяйка дома) подобны женским типам на Невском проспекте и на балу, уравнивая добродетель и порок. Ведь потребность купить порождает готовность продать, а проститутки это или охочие до магазинов жены и дочери дворян, «исплясавшиеся на балах» и желающие за деньги купить всё, – значения не имеет! – они одинаково бездуховны и по-своему продают себя, не различая добро и зло.
Вышеназванные петербургские типы сближаются бытованием на Невском проспекте, особенностями поведения (и мужского, и женского), общими интересами, постоянными занятиями, где, как у красавицы-проститутки, ремесло, коммерция, служба и праздность неразличимы. Поэтому честные, хотя пьющие немецкие ремесленники близки бессовестным ремесленным писакам-иноземцам, а тротуар Невского проспекта выравнивает не только богатых и бедных, занятых и не занятых, разных по характеру людей, но их лица, одежду, атрибуты... Человек мельчает (что и «подсказывают» читателю фамилии героев) до части тела или атрибута: ножка, усы, сабля… – до вещи, до торговли (собой), ибо уже ни добр, ни зол, «ни горяч, ни холоден»4, но в гордыне своей претендует на самообóжение как оставляемый Богом человек апокалиптического времени, предначертанного в Новом Завете.
Итак, перед героями в «европейском» мире Петербурга есть два пути: либо полное одиночество и религиозное самоотречение ради искусства, – это мессианство Художника, сохраняющего естественную духовность развития, христианские нормы; либо «низменное» поклонение Мамоне, охватившее все слои общества, – это полное измельчание, вырождение в антигероев или превращение в демоническую личность, подобную ростовщику. Тот неправедный мир определяет демоническая злоба к ближнему и отчуждение от него (не-любовь), а также их следствия: эгоцентризм, корыстолюбие, карьеризм, разные нарушения естественности, приличий и т.п., присущие раздробленному, хотя и унифицированному европейскому обществу, его «расквадраченному», «материально-меркантильному» миру. Этому злу противостоит только Искусство и Художник-Творец – личность, естественно и бескорыстно созидающая особый духовный мир, который отражает Божественную идею Добра в человеке, а потому способен объединять людей и принадлежит Вечности.
Но если художник сам идет на компромисс со злобно-меркантильным «бесом» и сопутствующим тому разрушительным хаосом, то создает противоестественный портрет, соединяя обычно несоединимое (мертвое и живое), умножая зло и помогая явиться в мир «антихристу». Значит, художник не может быть безучастным к окружающему и своим ближним: он или духовно растет в противоборстве со злом — и тогда развивает талант, со-творяя гармонический мир, открывая людям красоту Божественного, или изменяет таланту ради низкого ремесла — и становится филистером, богатеет, обкрадывая людей, лишая их духовных ценностей, приближая дьявольский хаос, а сам, как Чертков, становится его первой жертвой! Подобные обмены и/или продажи духовных благ за богатства земные постепенно разрушают Мир, ведут его к хаосу и гибели — убеждает читателя Гоголь.
Подобное размывание границ между антиномичными образами делает указанные черты филистера узнаваемо-общими для разных героев. Иными словами, филистером может быть любой из жителей Петербурга: ремесленник, художник, офицер и… сам рассказчик. Так смещаются критерии типичности гоголевского героя, и это, как мы уже видели, приводит к некой расплывчатой «усредненности», неопределенности его положения, когда он низводится (обычно среди других персонажей или в толпе) до роли марионетки, действующей безотчетно, не различающей добро и зло, а потому творящей зло. И если герои повестей в «Вечерах на хуторе близ Диканьки» (1831-1832) восходили к народным украинским – и фольклорным, и театральным, и литературным образам, прочно связанным друг с другом корнями фольклора, мотивами античного и средневекового искусства, а эпические персонажи повести «Тарас Бульба» подобны ветхозаветным героям религиозного плана – божествам, святым, воинам-подвижникам, то герои Невского проспекта, вероятно, тогда опознавались читателем как типы современной ему романтической литературы, причем в пошло-массовом и театрально-водевильном изводе, – они интернациональны, хотя и ощутимо влияние русского городского фольклора, традиций вертепа и балаганов.
Само искусство Гоголя-писателя представляется, с этой точки зрения, синкретичным – в том смысле, что автор, в зависимости от целей повествования, соединяет в нем формы, присущие разным эпохам, различным литературным направлениям и фольклору, использует мотивы народного творчества, античной и средневековой литературы, сочинения европейских и русских писателей Нового времени — и гармонизирует повествование, как бы заново создавая из литературно-фольклорного «хаоса» свой художественный мир и тем самым пытаясь воздействовать на мир обычный. И хотя, по словам Ю. В. Манна, «казалось бы, самое простое и логичное вывести из раздробленности “меркантильного века” мысль о фрагментарности художественного изображения в современном искусстве <...> Однако что касается Гоголя, то эта тенденция не определяет его поэтики в целом и постоянно борется с другой тенденцией — противоположной. Недаром, по мнению Гоголя, лоскутность и фрагментарность художественного образа — это удел второстепенных талантов <...> чем сильнее увлекала Гоголя мысль о раздробленности жизни, тем решительнее заявлял он о необходимости широкого синтеза в искусстве»5. Так, видимую, нарочитую фрагментарность изображения в «петербургских» повестях он применяет для показа «раздробленности» современной ему столичной жизни, засилья в ней омертвелых (ремесленных) форм, казенной отчужденности людей друг от друга. Но, подобно своему герою — «идеальному художнику», писатель стремится искусством преодолеть неподвижность, закоснелость, «дробность» окружающего. Концепцию мира, человека, искусства у Гоголя воплощает и сама форма эпического произведения: ей присущи идейно-тематическое соответствие частей целому, взаимосвязь историко-эстетических характеристик героев в плане повествования о современности, — то, что будет затем с такой художественной силой развито в поэме «Мертвые души».
Манн Ю. Поэтика Гоголя / Ю.В. Манн. – Изд. 2-е, доп. – Москва: Худ. лит., 1988. С. 191.
В «Откровении Иоанна Богослова» сказано: «Знаю твои дела; ты ни холоден, ни горяч; о, если бы ты был холоден или горяч! Но как ты тепл, а не горяч и не холоден, то изблюю тебя из уст Моих» (Откр. 3:15-16).
Гоголь Н.В. Полн. собр. соч.: В 14 т. Т. Х. Письма / Н.В. Гоголь. – Москва; Ленинград: Изд-во АН СССР, 1940. С. 100.
Гоголь Н.В. Указ. соч. Т. III / Н.В. Гоголь. – Москва; Ленинград: Изд-во АН СССР, 1938. С. 46. Далее везде цит. по этому тому, указывая в круглых скобках только № стр.
1Денисов Владимир Дмитриевич – доктор филолог. наук, профессор кафедры отечественной филологии Российского гос. гидрометеорологического университета (РГГМУ, Санкт-Петербург); vladdenisoff@mail.ru.
2Гоголь Н.В. Полн. собр. соч.: В 14 т. Т. Х. Письма / Н.В. Гоголь. – Москва; Ленинград: Изд-во АН СССР, 1940. С. 100.
3Гоголь Н.В. Указ. соч. Т. III / Н.В. Гоголь. – Москва; Ленинград: Изд-во АН СССР, 1938. С. 46. Далее везде цит. по этому тому, указывая в круглых скобках только № стр.
4В «Откровении Иоанна Богослова» сказано: «Знаю твои дела; ты ни холоден, ни горяч; о, если бы ты был холоден или горяч! Но как ты тепл, а не горяч и не холоден, то изблюю тебя из уст Моих» (Откр. 3:15-16).
5Манн Ю. Поэтика Гоголя / Ю.В. Манн. – Изд. 2-е, доп. – Москва: Худ. лит., 1988. С. 191.
2Гоголь Н.В. Полн. собр. соч.: В 14 т. Т. Х. Письма / Н.В. Гоголь. – Москва; Ленинград: Изд-во АН СССР, 1940. С. 100.
3Гоголь Н.В. Указ. соч. Т. III / Н.В. Гоголь. – Москва; Ленинград: Изд-во АН СССР, 1938. С. 46. Далее везде цит. по этому тому, указывая в круглых скобках только № стр.
4В «Откровении Иоанна Богослова» сказано: «Знаю твои дела; ты ни холоден, ни горяч; о, если бы ты был холоден или горяч! Но как ты тепл, а не горяч и не холоден, то изблюю тебя из уст Моих» (Откр. 3:15-16).
5Манн Ю. Поэтика Гоголя / Ю.В. Манн. – Изд. 2-е, доп. – Москва: Худ. лит., 1988. С. 191.
Автор: В.Д. Денисов, 2024 г.
Специально к 215-летию Н.В. Гоголя
Копирование текста без указания автора и ссылки на размещение является нарушением авторских прав.
Специально к 215-летию Н.В. Гоголя
Копирование текста без указания автора и ссылки на размещение является нарушением авторских прав.